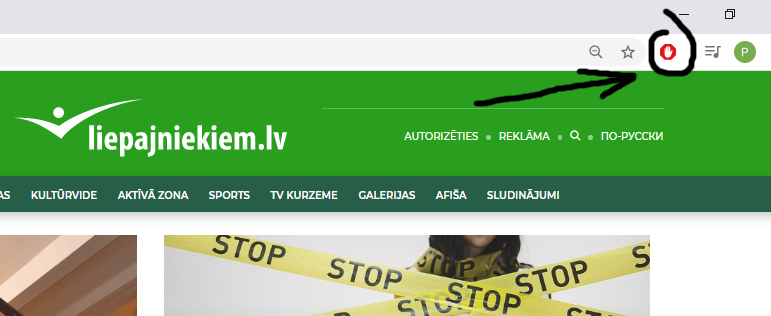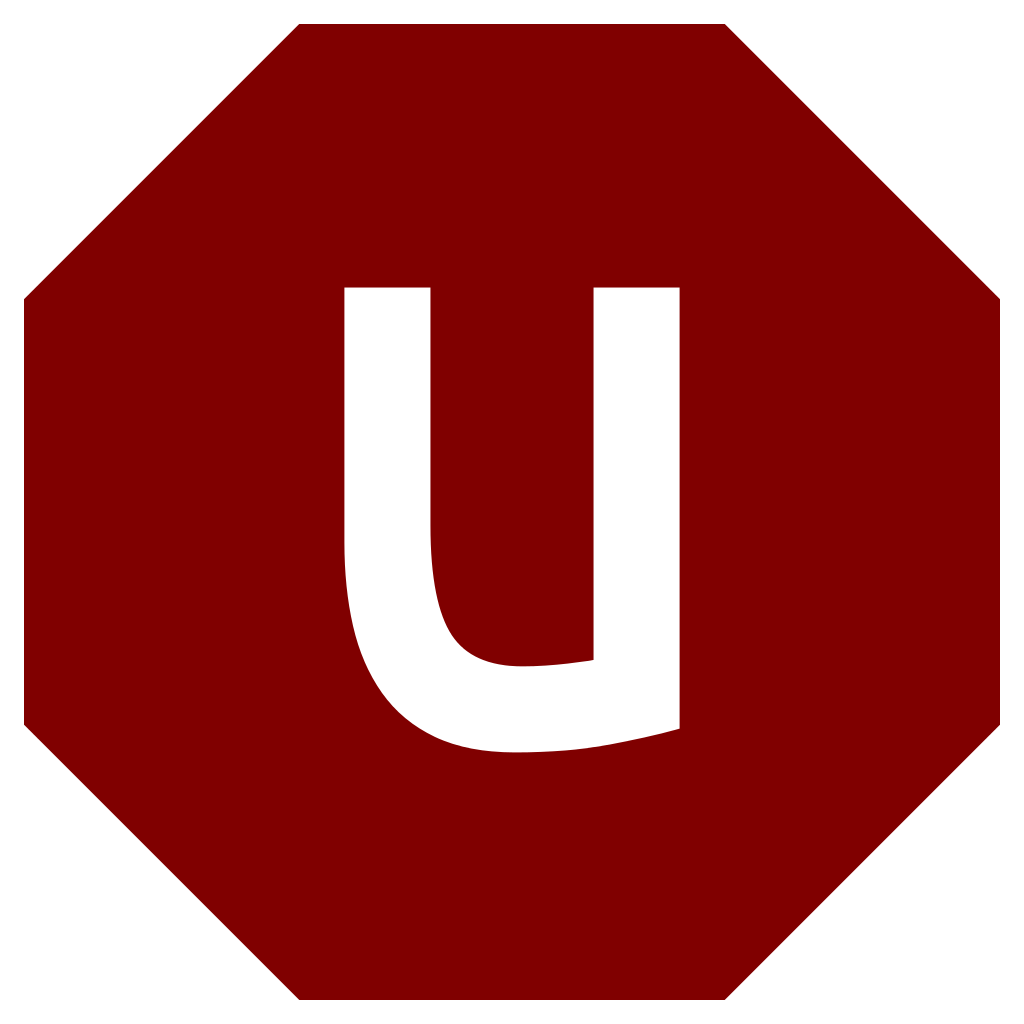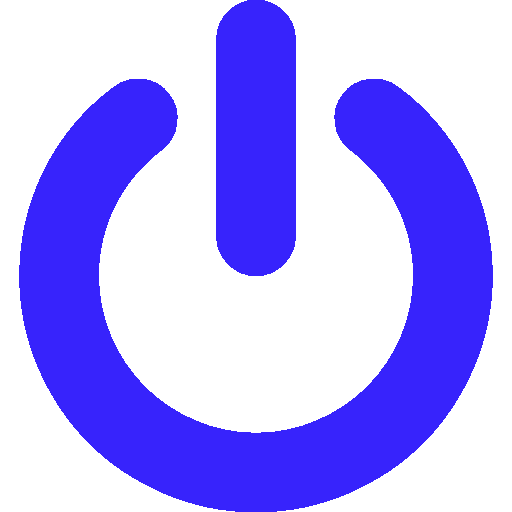Afiša
02.05.2024
Ceturtdiena Izstādes
Izstādes
Izstāde “Korelācija/Correlation”
2024-05-02, 10:00
Liepājas muzejs, muzeja anfilāde
 Izstādes
Izstādes
Izstāde no Liepājas muzeja mākslas kolekcijas “IESKATS”
2024-05-02, 10:00
Liepājas muzejs, lielā zāle
 Izstādes
Izstādes
Fotoizstāde “Padomju okupācijas mantojums Karostā”
2024-05-02, 10:00
Liepājas okupācijas muzejs
 Izstādes
Izstādes
Izstāde ”Melns, balts un viss kaut kas pa vidu”
2024-05-02, 11:00
Koncertzāle "Lielais dzintars", mākslas telpa "Civita Nova"
Afiša
02.05.2024
Ceturtdiena Sports
Sports
Šaušana pneimatisko šautuvē
2024-05-02, 12:00
Pneimatiskā šautuve "Lodīte"
03.05.2024
Piektdiena Sports
Sports
Šaušana pneimatisko šautuvē
2024-05-03, 12:00
Pneimatiskā šautuve "Lodīte"
 Sports
Sports
BK “Liepāja” – “VEF Rīga”. Projekts
2024-05-03, 19:00
LOC Olimpiskais centrs, arēna
04.05.2024
Sestdiena Sports
Sports
Starptautiskās ITF J60 Liepaja Open
2024-05-04, 10:00
LOC Tenisa halle